Дж. Карагезова
На протяжении развития цивилизации представления об истории туркмен фиксировались в легендарно-исторических описаниях М. Кашгари, Рашидадина, Абульгази и других. Наиболее детальное изучение туркменской истории началось со второй половины 18 века различными военно-дипломатическими экспедициями, а в новое время индивидуальными выездами в «поле» Боде, П.Лессара, А. Вамбери. Много интересных сведений о тех временах: этнографические описания народа, его быта, обычаев и традиций, костюмов, методов ведения хозяйства — собрали Д.Н.Лагофет, А.И.Кияшко и другие генералы, офицеры российской армии.
В советский период стал издаваться историко-краеведческий ежемесячный журнал «Туркменоведение» и его туркменоязычный аналог – «Туркмен меденияты». А в тридцатых годах уже назрела необходимость писать новую историю народа от древнейших времен до наших дней. Чтобы обобщить отрывочный, не систематизированный и критически не проверенный материал древних хроник и заполнить им пробелы знаний об истории народа требовалось более детальное изучение быта, обычаев, искусства и культуры, семейных отношений туркменского народа и национальных меньшинств, что было сделано этнографической секцией Туркменского научно-исследовательского института культуры (Туркменкульт), на базе которого в 1936 году был создан этнографический сектор Института истории, освещенный яркими исследованиями материально-духовной культуры туркмен В.В. Бартольда, Н.Н. Йомудского, В.Г Мошковой, Л.В. Ошанина, А.Морозовой, Г.И. Карпова, С.П. Толстова.
Именно в те годы изучались царские архивы в Тбилиси и Астрахани, так как документальные сведения различных эпох истории и этнографии народа отображают подлинные факты и события, позволяют ощутить пульс исследуемого времени. К тому же организовывались экспедиции для записи устных преданий в места проживания туркменского этноса.
Вопросы, интересовавшие в то время ученых сегодня могут показаться прозаическими, однако важность их в науке о туркменах даже возрастает со временем. Изучались исчезающие аграрные отношений типа «ёвар», а когда исследовали жилища туркмен-нохурли, то выявили существование домов эпохи первичной оседлости. Изучая пережитки древних форм семьи и брака, ученые умели видеть историческую глубину. Например, этнографами был отмечен архаичный запрет в семьях произносить имена супругов — муж обращался к жене словами «стряпуха» или просто использовал окрик «эй!», жена же называла мужа «сам», «отец такого-то», «мой человек». В ходе сбора материалов о доисламских представлениях туркмен в советском ауле были описаны многие исчезающие культы, как, например, традиция спускания детьми кушака через дымоход во время одного из религиозных праздников.
С 1927 по 1936 годы А. П. Поцелуевский организовал по плану Туркменкульта несколько этнолого — лингвистических экспедиций. Результаты наблюдений над туркменской фонетикой были изложены в книгах «Фонетика туркменского языка» и «Диалекты туркменского языка».
Во второй половине двадцатых годов совершил этнографические экспедиции В. А. Успенский, музыковед и композитор, один из крупнейших этномузыковедов, получивший позже звание народного артиста Туркменской ССР. По результатам экспедиций совместно с В. М. Беляевым была опубликована фундаментальная работа «Туркменская музыка», которую напутствовал нарком просвещения Бяшим Перенглиев, впоследствии объявленный врагом народа и расстрелянный в 1938-ом. И потому внезапный арест Успенского не стал неожиданностью, как и репрессии и преследования А.П. Поцелуевского, Н.Н. Йомудского, Мухамметмурата Непеслиева и тех народных музыкантов, с которыми Успенский сотрудничал.
Активно собирала материал по родословной туркмен профессор Н. В. Брюллова-Шаскольская, которая в двадцатых годах находилась в ссылке в Средней Азии. Будучи этнологом, Брюллова — Шаскольская руководила этнографической̆ экспедицией̆. Ее статьи о родовых делениях туркмен были опубликованы на страницах местной научной периодики того времени.
Более двух тысяч туркменских родовых названий было собрано ответственным работником НКВД, а в последующем руководителем первых научных учреждений Туркменистана Г. И. Карповым, в исследованиях которого были заложены основы современной туркменской этнологии. Исследователь ввел новую практику: он писал письма в райздравотделы с вопросом — не смогут ли врачи взять на себя труд по собиранию этнографического материала и стать член-корреспондентами Института истории. Заниматься сбором этнографического материала по истории, быту, нравам, обычаям, семейным отношениям приглашали врачей, арчинов, учителей и просто яшули.
Старший научный сотрудник В. Г. Мошкова, впоследствии специалист по истории туркменского ковроделия, в те годы готовила этнографические этюды и разрабатывала новые темы по исследованию быта туркменского народа.
В 1940 году Институт истории приступает к подготовке издания книги-альбома “Изобразительное народное творчество Туркмении” в издательстве “Искусство”. В Туркменском государственном музее начались работы по зарисовке вышивок, ковров и кошм. Однако осуществлению этих и других масштабных этнографических проектов помешала война.
А позже в туркменской этнографии появились новые достойные имена: Аннадурды Оразов, Ата Джикиев, Шихберды Аннаклычев, В.Н.Басилов, Ю.М.Ботяков и еще целый ряд ученых. Их научные труды были очень разнообразны по тематике. Например, исследования Г. П. Васильевой дали новые свидетельства о существовании в этногенезе туркмен значительного доогузского тюркоязычного пласта, близкого по культуре предшествовавшему ираноязычному. Но впоследствии известная туркменская исследовательница в предисловии к книге «История этнографического изучения туркменского народа в отечественной науке. Конец XVII – XX века» с горечью писала, что «Постсоветский период, …, в истории науки по Туркменистану, с нашей точки зрения, выделять не имело смысла, так как в этой республике этнографические исследования практически прекратились…».
А вот еще тревожное в нашу сложную эпоху нивелирования национальных культур высказывание другого ученого — сотрудника Российского этнографического музея Т. Емельяненко, которой по крупицам удается сохранить экспонаты, представляющие собой ценность для истории культуры среднеазиатских народов, в том числе и туркмен: «Студентам в университете мне приходится рассказывать, что такое Средняя Азия и где эта Средняя Азия находится. И этот процесс вымывания информации происходит очень быстро»…

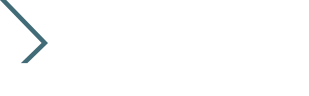
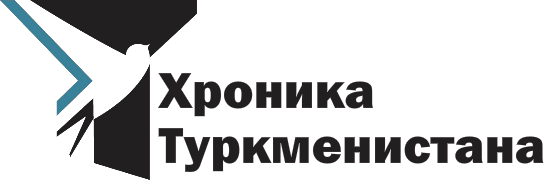

Так что Дж. Карагезова сказать хотела? Статья о том, кто пытался заниматься этнографией туркмен?
Очевидно то, что сейчас это властям не интересно. Денег на это не выделяется, АН рвения не проявляет…
Уехавший из Туркмении в Краснодарский край этнограф Сергей Михайлович Демидов ухитрился ТАМ создать музей туркмен!!!! Всё держится на его энтузиазме, а ему уже более 80 лет.
А вы не могли бы его контакты в редакцию ХТ прислать?
Да никому это уже не нужно. Справедливость истории подорвана произведениями ниязова и бердымухаммедова.
Новая история вписаны с молоком матери, старая не нужна. Надо будет,Уркадаг придумает ещё что-нибудь и заставит учить это в школе, как последнюю истину.
Туркменские учёные до мозга костей Рухнамисты. Ниязова сказал, что придумали колесо, все похлопали и согласились. А в эпоху Уркадага Туркменские учёные в 2018 году изобрели галоши и нетбук.
У каждой эпохи своих герои, которые придумывают свою историю. А как итог, истребят нацию.
Как известно историю не перепишешь. Историю имеет не земля на которой перечерчены границы и на карте написано Туркменистан. Великая история у Туркменского народа, который имеет свой менталитет из покон веков, и ее не изменишь. Диктаторы были во все времена, только звались по другому!
Историю перепишешь очень легко и просто.ЕЕ пишут победители. Статья из энциклопедии.
Побывав вомногих странах и учась за границей все больше понимаю смысл старой но не изъевшей себя пословицы : » Yat ilinde bay bolanyndan, oz ilinde geday bolanyn yagsydyr»